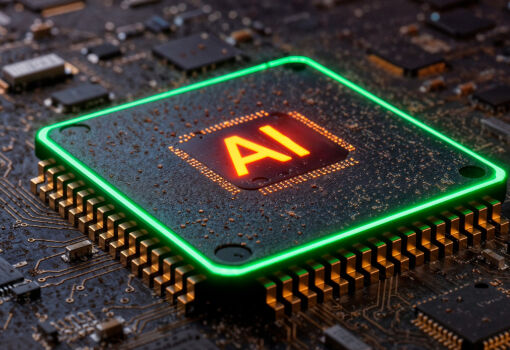За несколько недель до федеральных выборов 23 февраля в Германии случилось политическое землетрясение. Главная оппозиционная партия страны – правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) – воспользовалась поддержкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) для принятия решения в национальном парламенте.
Лидер ХДС Фридрих Мерц, которого давно считают главным претендентом на пост канцлера, оправдывает этот шаг нежеланием других партий заняться проблемой миграции. Но хотя принятое решение не содержит конкретики, в защите демократических политических партий от ультраправых пробита брешь. Германия больше не может называть себя одной из последних крупных демократических стран в Европе, где крайне правых не «нормализуют».
Но что такое нормализация, и почему её надо критиковать? Начнём с того, что нормализация не равна признанию общепринятым («mainstreaming»). Нормализация – это рациональное объяснение нарушения действующих норм (в данном случае норма: не сотрудничать с крайне правыми партиями, ставящими под угрозу демократию). А общепринятое («мейнстрим») всегда относительно. Как и в случае с идеей политического центра, здесь нет объективного содержания; это просто название для всего, что общепринято и широко поддерживается.
Соответственно, вступление в коалицию с крайне правой партией или использование её поддержки для принятия законов – это формы нормализации, а копирование риторики крайне правых – это пример «мейнстриминга». Чтобы сделать темы крайне правых мейнстримом, достаточно привлекать к ним внимание и говорить о них так, как этого хотят крайне правые. Социологи уже давно предупреждают, что, когда в избирательной кампании доминируют любимые темы крайне правых, это сулит им хорошие результаты на выборах.
Демократическим политикам не нравится выглядеть циничными оппортунистами, поэтому обычно они стараются оправдать нормализацию. Один из вариантов – просто объявить, что все нормы остались в силе, а случившееся нельзя назвать их нарушением. По этому пути пошёл Мерц, подчеркнув, что его цель – уменьшить долю голосов AfD. Но этот аргумент не убеждает. Конкурирующие партии часто затем создают коалиции, а противоречия в их программах не означают, что они никогда не будут сотрудничать.
Другой вариант – объявить норму недействительной. Несколько десятилетий «Итальянское социальное движение» (MSI), культивировавшее ностальгию по временам Муссолини и фашизма, считалось чем-то неприличным. Подобно коммунистам, оно не входило в «конституционную арку» (arco costituzionale), образованную партиями, которые принимали демократическую конституцию послевоенной Италии. Но затем появился Сильвио Берлускони, первопроходец нормализации, который называл антифашистский консенсус либо устаревшим, либо заговором крайне левых против правых. Его партия сформировала коалицию с MSI в 1994 году.
Ещё один вариант – сохранить норму, но заявить, что она не применима к конкретной партии или менее важна, чем другие политические императивы. Вспомните нынешнего премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая начинала политическую карьеру в молодежных организациях MSI. Для многих политиков – как в Италии, так и за её пределами – её партия «Братья Италии» (Fratelli d'Italia), являющаяся прямым наследником MSI, оказалась совершенно приемлемым партнёром. Даже те, кто ещё колеблется по поводу работы с самым ультраправым правительством Италии со времён Второй мировой войны, могут сослаться на более серьёзные проблемы (например, необходимость выступать единым фронтом в поддержку Украины), чтобы оправдать сотрудничество.
Схожая логика применима к Австрии. Правоцентристская Австрийская народная партия (АНП) сначала исключала сотрудничество с Гербертом Киклем, председателем ультраправой Австрийской партии свободы (АПС). Но когда у АНП провалились переговоры с левоцентристами, она начала переговоры с партией Кикля – во имя государственного управления в Австрии. Эти переговоры тоже провалились, но, пока они продолжались, АНП сигнализировала австрийцам, что Кикль – вполне приемлемый вариант (и этот сигнал, безусловно, поможет АПС на ближайших выборах). Разумно предположить, что многие австрийцы проголосовали за АНП на последних выборах потому, что эта партия обещала не нормализовать крайне правых. Неизвестно, поверят ли они ей снова после столь вопиющего предательства.
Ещё более зловещей выглядит ситуация, когда крайне правые фактически диктуют политику, но их лидеры не занимают высоких постов, а значит, не несут ответственности. Например, в Швеции нынешнее правительство меньшинства опирается на поддержку крайне правых «Шведских демократов»; во Франции у правительства тоже нет большинства – оно держится на милости «Национального собрания» Марин Ле Пен; а в Нидерландах правительство включает крайне правых, но их лидер – Герт Вилдерс (он полностью контролирует свою партию, будучи её единственным официальным членом) – держится на заднем плане.
Как только нормализация произошла, её практически невозможно отменить. Значение «мейнстриминга» несколько иное, потому что политики продолжают определять, на каких темах им делать акцент, и как их трактовать. Им давно пора понять, что некритичное копирование тезисов крайне правых (зачастую речь идёт о плохо скрываемом разжигании ненависти) – это не просто аморально. Это проигрышная ставка накануне выборов.
Ян-Вернер МЮЛЛЕР,
профессор политологии в Принстонском университете, автор книги «Правила демократии»
(издательства Farrar, Straus and Giroux и Allen Lane, 2021 год).
© Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org